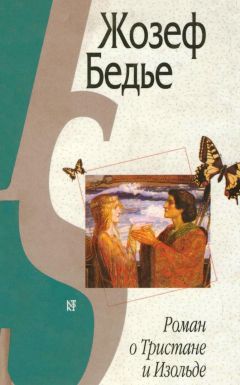Игорь Москвин - Петербургский сыск. 1874 год, февраль
– Скажи, не слышал ли ты, куда Николка собирался?
– Когда я спать шёл, он говорил, что домой ему надо, деньги какие—то отвести. Про деньги он соврал наверняка, а него больше трёшки в кармане никогда не бывало.
– Откуда знаешь?
– Так я слышу хорошо, хоть и в каморку ушёл, а бубнёжь их разбирал. Смеялись они много, – только сейчас Антон всхлипнул, и на глазах появились слезы.
– Над чем?
– Над собой.
– Николка какой он?
– Хороший, добрый, никогда слова плохого не скажет.
– Что ж он за нож схватился?
– Перепил, я много в заведении видел. Некоторые, как выпьют, так глаза бычьи и руки в оборот пускают, а иные выпьют и плачут. Всяких видел.
– Ефим из каких мест?
– Из Петергофского уезда.
– Значит, и Николка оттуда?
– Значит, так.
– Деревня, село?
– Из Низино он.
– Шея болит.
– Есть маленько, вот у Ефима уже ничего не болит, – с досадой по—взрослому произнёс Антон, – жалко мне его, за брата он мне был, – и из глаз потекли слезы.
– Ничего, – произнёс посерьёзневшим голосом Путилин, – сам—то жив, и, Слава Богу. А Николку мы с твоей помощью изловим, не сомневайся.
Когда увела сиделка Антона, помощник пристава произнёс:
– По чести говоря, я сомневался в нашем предприятии. Я же видел, в каком состоянии везли мальчишку в больницу.
– Я тоже.
Ротмистр удивлённо посмотрел на Ивана Дмитриевича. Он никогда не замечал за Путилиным такого чувства, как сомнение.
Глава двадцать вторая. Пустая…
Идя по коридору, Путилин застёгивал пальто.
– Григорий Михайлович, посылайте полицейских участка для ареста этого Николки.
– Но… – хотел вставить ротмистр.
– Нет, нет, – возразил Иван Дмитриевич, – вы раскрыли это дело. Поэтому я не вправе присваивать ваши лавры.
Помощник пристава с нескрываемым удовольствием улыбнулся. Раскрыть дело в один день и без участия сыскной полиции, большая удача и при том в отсутствие начальника. Может, наконец, недостижимая должность пристава какой—либо, хотя бы самой захудалой, части улыбнется ему.
Ротмистр промолчал.
– Позвольте откланяться, распорядитесь, чтобы агенты следовали в сыскное.
– Да, да. – с жаром произнёс помощник пристава, – непременно.
Путилин возвращался на Большую Морскую в подавленном настроении, не из—за минутной слабости, когда мог приписать раскрытие дела всецело своему отделению. Иван Дмитриевич никогда не был падок на такую, как он считал «дармовщинку». Пусть участковые приставы вешают ордена на грудь, но зато отношения важнее, чем раскрытое дело. Да и дело оно? Когда есть свидетель, который способен назвать преступника. Путилина привлекали запутанные дела, когда можно проявить смекалку и самому разобраться в хитросплетениях отношений, приведших к убийству. Вот, как в прошлом году, когда на пустынной улице нашли зарезанного чиновника Экспедиции Заготовления Государственных бумаг. Жаль, что главному организатору удалось скрыться, но все—таки сыскное отделение проявило себя с лучшей стороны, что Ивана Дмитриевича охватывала гордость за людей, с которыми приходится служить.
От Обуховской больницы до Большой Морской версты три с половиной. Но Путилин решил пройтись пешком, на половине пути, на Знаменской площади не вытерпел мороза, который укутал присутствием так, что стало невмоготу, и Иван Дмитриевич взял извозчика, в четверть часа домчавшего до порога сыскного отделения.
Срочных бумаг не поступало, и Путилин поднялся в кабинет, где заварил чаю, и, не обращая ни на что внимания, вприкуску выпил большую чашку после уличного мороза. Он сразу же выбросил из головы и маленького Антона, и убийцу Николку, и находящегося в тёмном холодном морге Ефима. Иван Дмитриевич вернулся к делу на Курлядской, которое, как гвоздь, вонзилось в голову и ныло тупой не отпускающей ни на миг болью.
Восемь убитых со звериной жестокостью. Каждую весну, после вскрытия ото льда Невы и каналов ежедневно всплывало и поболе раздутых до неузнаваемости покойников, но то дань большого города Балтийскому заливу. Не все бывали, опознаны, да и причина смерти зачастую была установлена – самоубийца или кто помог? А здесь вот, лежат восемь человек и вопиют о мщении тому, кто поднял без зазрения совести руку на ближних. А руку ли? Может звериную лапу с когтями?
Жуков сразу же направился на Лиговский. Оказалось, что дом Чистякова, каменный построенный в три этажа, выходил фасадом, как на Обводный канал, так и на Лиговский. Купец, разбогатевший на торговле лесом, решил осесть в Санкт—Петербурге. Да не так, чтобы просто дом купить для себя и семейства, а непременно чтобы и барыш с него получать, вот деньги вложил в новое предприятие – доходный дом, комнаты и углы в котором сдавал приезжающим искать в столице работу крестьянам или мещанам из других городов.
Чистяков, хоть и построил с размахом, но все—таки фасады украсить посчитал излишеством и теперь дом серого мрачного цвета стоял, словно скала перенесённая на берега каналов, узкими окнами давая понять, что деньги к деньгам и не следует их тратить без толку. Народу надо что? Угол, чтобы жить, а не красотой наслаждаться.
Вальяжный дворник встретил у ворот. В эту минуту счищал снег.
– Эй, куды? – бросил он зычным голосом.
– Дом купца Чистякова? – спросил слегка окоченевший Миша.
– Ит. он и есть? Тебе—то что? – дворник окинул взглядом неказистое пальто Жукова и прикинул, что пришёл очередной человек в поисках свободной комнаты, а может просто угла.
– Значит, это он и есть, – вполголоса произнёс Миша, – а ты при нем дворником?
– Я тута старшим над дворниками поставленный, – у собеседника грудь колесом стала, словно он представлялся: «Кавалер ордена Святого Георгия» и прочая, прочая, прочая.
Жуков хотел улыбнуться, но сдержал рвавшуюся улыбку.
– Раз здесь старший, то мне ты и нужен, – Миша показал старшему над дворниками свою бляху и тихим голосом, нагнетая таинственность, представился:
– Помощник начальника сыскной полиции Михаил Силантиевич Жуков!
– Ваше, – дворник на миг запнулся, больно молод помощник, значит никак не «Высокоблагородие», только лишь, – благородие, чем полезны, можем быть? – он слегка наклонился. Кто его знает, за чем пожаловал этот молодец, может, вскрылось, что в отсутствие снимающих, старший над дворниками повадился ходить по пустым комнатам и забирать себе, что плохо лежит.
– Можешь, – теперь Миша играл роль большого начальника, – желательно переговорить тет—а—тет, – и, увидев испуганные глаза собеседника, добавил, – с глазу на глаз.
– Прошу в мою комнату.
– Там никто не помешает?
– Никак нет, – отрапортовал старший над дворниками, – хозяйки ныне дома нет, а детишков не имею.
– Хорошо.
Дворницкая состояла, кроме небольшого тёмного коридорчика, длинной не более полутора аршин и из комнаты, разделённой на две части занавеской – в первой стоял стол, по обе стороны от него деревянные лавки, печка, на которой хозяйка готовила нехитрый обед и в то же время давала тепло.
Миша прошёл и заглянул за занавеску, там стояла неширокая лежанка, хозяйка. В самом деле, куда—то ушла.
– Так, – начал Жуков, – как понимаешь, – и остановился, – зовут—то тебя как?
– Никанор.
– Как понимаешь, Никанор, разговор у нас тайный и разглашению не подлежит.
– Эт мы понимам, – дворник накручивал на палец завиток бороды, – не первый год в столице проживам.
– Тогда без предисловий, – Миша вытер скамью перчаткой и присел, – садись, Никанор, садись, – он произнёс начальствующим тоном.
Дворник присел на краешек второй скамьи, напротив Жукова.
– Ты всех знаешь проживающих в доме?
– Служба у нас такая всех знать, – хотя, – пожаловался Никанор. – Дом—то больно большой.
– Вот именно. Значит, знаешь всех?
– Ну, – замялся дворник, – кто недавно поселился, так тех пока не всех.
– Хорошо, что правду говоришь. А тех, кто давно живёт?
– Тех—то всех, – позволил себе улыбнуться Никанор.
– Живёт здесь у вас некий Ефим Перегубов.
– Фимка? Как же! Его – то давно знаю, – не выдержал дворник и перебил от радости Мишу, что тот пришёл не по его, дворницкую душу, но потом испуганно взглянул и умолк.
– Прекрасно, значит, есть, что рассказать.
– Ваше Благородие, я ж не знаю, что вам надобно? Вы спрашивайте, а уж я постараюсь.
– Ты, братец, постарайся, только без излишнего рвения, лишнего на человека наговаривать не надо.
– Что вы! Ваше Благородие. Разве уж можно порочить?
– Знаю я вас, – и Миша со строгим выражением пригрозил пальцем Никанору.
– Да, Боже, упаси, пусть язык отсохнет, ежели неправду скажу.
– Ты всех привечаешь, когда уходят, когда приходит.
– Народу много, Ваше благородие, много, но по мере сил…